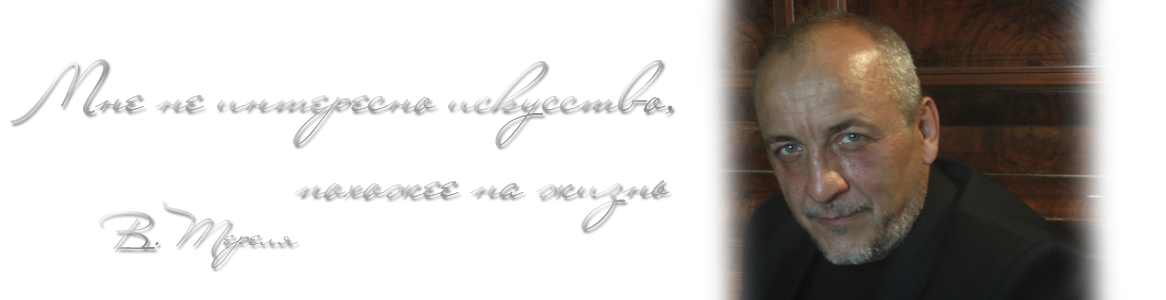
Собор Парижской Богоматери
Дорога к храму
Марина Дмитревская
Саратовский ТЮЗ им. Ю. Киселева.
Режиссер Виктор Тереля,
художник Ольга Колесникова
«Школа драматического искусства» Анатолия Васильева давно кажется школой без учеников, где «апостолы», создающие мизансцену вокруг Учителя, не пишут потом свои театральные «евангелия», а если и следуют некоторое время урокам Школы, то только тем, которые пришлись на период их ученичества. Занятия импровизацией, ритмом, словом — элементами театрального языка, изучению которых посвящает себя Васильев на разных этапах своего Пути, — надолго приговаривают его учеников к импровизации (и только!), к ритмическим упражнениям (и только!) — в зависимости от того, какой элемент интересовал тогда Васильева. От этого виденные мною спектакли правоверных учеников Школы выглядели элементарными (пробой элементов «периодической системы»), а те, кто, развившись, обрел собственный режиссерский мир — скажем, Клим, — принципиально уходили от Школы далеко и безвозвратно.
Виктор Тереля, поставивший в Саратовском ТЮЗе «Собор Парижской богоматери», говорит, что у него нет собственных режиссерских амбиций, у него есть только амбиции Школы, адептом которой он хочет быть, сознательно и последовательно апробируя метод Школы на актерах, никогда не имевших отношения к Васильеву и его идеям. Тереля захвачен идеей создания театра, где звучали бы великие трактаты и статьи, а беллетристика открывала бы философские тайны, спрятанные под сюжетом (см. «Петербургский театральный журнал» 18—19). Он ищет места встречи зрителей с Идеей, которая может захватить именно как идея, концепт, мысль.
Судьбе было угодно распорядиться, чтобы местом такой встречи оказался Саратовский ТЮЗ — обжитой, уютный, хорошо организованный мирный театр, которым феноменально долго (53 года — цифра для книги рекордов Гиннеса) руководил Ю. П. Киселев, где сохраняют традиции, идущие от «Аленького цветочка» 1948 года, и сам «Аленький цветочек», не увядающий в репертуаре (бабушки, видевшие его девочками, приводят внучек), где до сих пор существуют и играют травести (в том числе и немолодые) и где не без оснований боятся любых разрушительных влияний.
Тем не менее именно туда позвали Терелю с его «атомным» темпераментом, с резким соединением «почвенной» додинской актерской закваски и философской умозрительности режиссерской школы Васильева в ее нынешнем варианте. Уверена — эстетический эксперимент, предложенный театру, оказался необычайно полезен. Сыграть «мистерию о соборе», забыв штампы «театра детской радости», сменить «разноцветные» интонации мальвин и буратино на «монохромное» произнесение текстов Гюго, вычленяя из них красоту мысли, — это было, наверное, для труппы эстетическим шоком, а может быть, и шокотерапией.
Школа обозначила себя на сцене Саратовского ТЮЗа белыми стенами, напоминающими зал театра Васильева, только в декорации они выполнены из белых полотнищ, испещренных графикой алхимических, каббалистических знаков и просто средневековых рисунков. Вязь рисунков переходит в графику металлических конструкций: собор почти лежит, занимая всю сцену, подобно пандусу, и только иногда распахивая свои половинки — как книга обложку. Медленно кружится кольцо внутри собора, на нем, подобно спиритам, выпрямив спины в параллель спинкам высоких стульев, со свечами в руках сидят мисты — исполнители мистерии, ведущие разговор о роке, соборе, его тайне и тексте. Они тянут нити судьбы, кружась вокруг прялки, за которой — безумная женщина, парка, как окажется впоследствии — мать Эсмеральды (Т. Лукина).
Интонации всех героев отрывочны, это как бы отсутствие интонации, принципиальное для театра Васильева, считающего, что интонирование убивает смысл Слова, умертвляет его. С моей точки зрения, ровно наоборот, и здесь я позволю себе ненадолго покинуть пространство саратовского спектакля и сделать шаг на территорию Школы Васильева в этой точке ее экспериментирования.
Думаю и вижу это в спектаклях Школы - лишить живую речь интонации вообще невозможно, намеренное не-интонирование все равно является интонацией, причем закрепленной в своем псевдоотсутствии. Осознанная монотонность лишает слово дыхания в еще большей степени, чем вложенная эмоция, обрекая его на смерть. Васильев заставляет, например, в «Каменном госте» повторять и повторять, варьируя, пушкинские строфы, но повторение текста не приращивает смыслы, а все более и более нивелирует тот смысл, который начертан Словом в данном контексте. Шлифовка камня превращает его в ювелирное изделие. Шлифовка текста (уже отшлифованного, кстати, Пушкиным) превращает того же «Каменного гостя» в неживое изделие, лишенное органических свойств, мертвое и пригодное для холодного созерцания. С этим инструментарием вольный каменщик В. Тереля и актер Школы И. Яцко, сделавший инсценировку, приблизились к собору романтика Гюго.
В начале спектакля Фролло — А. Федоров говорит, что научит нас расшифровывать иероглифы зданий, каменные слова каменных книг, в том числе тайный смысл книги «Собор Парижской богоматери»… Проходы театра заполняют монахи в черных капюшонах (Губернский театр хоровой музыки под руководством Л. Лицовой сопровождает спектакль пением И.-С. Баха, А. Лотти, Ш. Гуно, А. Онеггера). Идет литургия. Школа снова обозначает себя, на сей раз — отсылкой к «Плачу Иеремии». Свечи зажжены, мистерия со злодеем Фролло, жертвой Эсмеральдой-Агнессой (так ее назвали при рождении), беленьким агнцем, уродом Квазимодо и красавцем Фебом вступает в права.
Тереля не ставит романтический сюжет и справедливо страшится всякого намека на мелодраматизм (есть очень хорошие куски, где рваная, резкая интонация отчуждает мелодраму, но не само чувство, бесстрастность страстного монолога рождает какую-то третью эмоцию). Он сталкивает в диалогах язычество (жители «Двора чудес», площадной люд одеты в заклепанные «косухи» и кожаные мини-юбки) и христианство, алхимию и веру, уродство и красоту, он занят диалогом оппозиций, и, наверное, все эти понятия надо бы писать в данном случае с большой буквы, смирившись с отсутствием в спектакле горячего дыхания, которое чувствовал в юности каждый читавший роман Гюго.
Все очень красиво, стильно, современно, художественно достойно, но в общем смысле смущает несхождение еще одной оппозиции. Романтической прозе Гюго предлагают тот способ мировосприятия, против которого была направлена вся его и прочих романтиков эстетическая реформа. Рассудочности, рационализму, увядающему классицизму была, как известно, противопоставлена идея личностной свободы, свободы чувства от предрассудка любимой мысли. Скандал на премьере «Эрнани» вряд ли разразился бы, будь Виктор Гюго Виктором Терелей, стремящимся эстетизировать и упорядочить Тайну, Рок («ANAГKН» («ананке») — слово, начертанное на стене Собора) — в угоду любимой мысли, Школе, методу, которым, решусь выразить сомнение, открывается далеко не каждый текст. Не всякая дорога ведет к храму…
Сам В. Тереля, уже после спектакля, объяснял, что в романе Гюго зашифрована мистериальная идея, что, глава ордена Меровингов, Виктор Гюго скрыл мистическую тайну в глубинах романтического сюжета. Этому посвящены не переведенные у нас исследования, которые случайно попались режиссеру в Польше и вдохновили его на этот спектакль. Тереля убеждает, как всегда, страстно, и потому ссылку на неведомые нам источники, быть может способные поменять привычный взгляд на «Собор Парижской богоматери», я считаю необходимым сделать для читателя, столь же непросвещенного, как и я.
Но, надо сказать, художественный текст, независимо от шифров и тайн, склонен жить своей жизнью, и во втором действии спектаклю приходится вспомнить о сюжете романа, характерах и, так или иначе, досказать человеческую историю. Нет, никакой любви и страданий Квазимодо нам не представляют, но встреча Эсмеральды с матерью и ее казнь уже не вписываются в строгий регламент диалога. Романтические всплески незаконным образом меняют строй спектакля, интонация оживает, хотя видно, как режиссерская узда, накинутая на исполнителей, каждый раз напоминает им о выбранном направлении. Дернувшись в сторону привычного, они возвращаются в лоно избранного стиля и старательно выравнивают шаг. В нескольких местах (скажем, в сцене, когда мать Эсмеральды рассказывает историю украденной дочери и мелодекламация в сопровождении органа-молитвы позволяет соединить романтическое и мистериальное) спектакль звучит целостно и ясно.
Под звуки хорала у ног распятой Эсмеральды (Н. Фабрикант) ложится Квазимодо (Д. Сарайкин)… Он снимает горб и парик, оставаясь в смерти некой чистой сущностью. Остов лежащего собора-книги с закрытыми створками покрывают белой тканью — саваном. Жертва принесена, Эсмеральда и Квазимодо застыли белыми скульптурами на вершине храма, строительство которого завершено, — он будто обретает белые стены. Душа его будет теперь жить. Литургия окончена. Мистерия поставлена.
© VictorTerelya, Виктор Тереля 2010 - 2012
Вернуться на главную страницу
Все права на видео, фото, аудио и прочие материалы, размещенные на сайте, принадлежат их авторам и (или) владельцам авторских прав.